Художник Николай Ватагин помимо портретов и скульптур создал из дерева галерею русских писателей. Откуда взялся этот замысел? И почему классики вышли такие забавные?
— Николай, сколько у вас этих деревянных знаменитостей ?
— Больше четырёхсот. Дело было так: я как-то увлёкся народным творчеством, мне нравилась резьба и игрушка. А тогда, в начале 80-х, был книжный дефицит, но литературная критика как раз продавалась, начиная от Киреевского, Страхова, Михайловского, и я всё это прочитывал. Так и совместились русская литература и русская игрушка.
— А юмор и пародийность тоже от лубка?
— Думаю, это мне свойственно вообще. Друзья иногда меня дразнят поручиком Ржевским. Моя прабабка была Ржевская, Родом из обедневших дворян, одна из двух художниц, принятых в сообщество передвижников. Сам я закончил Строгановку, скульптором стал уже лет
в тридцать. Теперь семь месяцев в Тарусе работаю с деревянными скульптурами, а зимой еще режу маленьких без конца…

— Режете маленьких? Это вы про писателей? А кстати, почему у вашего Льва Толстого вечно рот разинут? Намекаете на его многословность?
— Я не большой любитель Толстого. Он мне напоминает улей. Понимаю, что он глыба, матёрый человечище, но всё, что ему интересно, мне — нет. Так скучны его искания… Что говорит, конечно, не о Толстом, а обо мне. Пушкин же практически родной человек, я прочёл его всего. У меня вначале была картина «Пушкин в раю», потом я сделал скульптуру.,.
— Это в набедренной повязке и с птичкой? А тело атлета, потому что он русскую литературу вытащил на плечах?
— Это костюм благоразумного разбойника. Тут немного супрематизма, Малевича. Пушкин близок мне по духу. Сколько бы люди ни ссорились, ни расходились в политических взглядах, Пушкин — тот, кто всех примиряет, потому что он всем интересен. Сфинкс такой. Загадка. А птичка в руке — символ рая.
— Чтобы сделать такого Державина или такого Фета, надо много знать. Образ же создаёте. Как Толстой, когда он про Фета пишет, откуда, мол, у этого толстого армейского офицера такое тонкое лирическое чувство…
— У Фета и воспоминания довольно сухие. Рациональные. Я в прошлом году Фета делал…
— Ваши фигурки все с опознавательными знаками — очки у Вяземского, халат у Островского. А женщины отчего раздеты? Бусы да чёлка?
— Женщина, я считаю, прекрасна. Мы их с тринадцати лет писали в школе и к наготе привыкли. Голый мужик — это что такое? А женщина так хороша, что жалко одевать.
— Набокова вы, видимо, не любите, что и заметно по его лощёности. А Андрея Платонова?
— Он гений из гениев, но я на него обижен. В «Котловане» помните момент, когда сплавляют кулаков на плотах? Он с симпатией об этом пишет. По-ленински считает, что можно уничтожать другой класс.
— Вам лично какие из персон нравятся? Кто лучше вышел?
— Как сделал – приходишь в восторг, думаешь, какой же ты молодец. По прошествии времени результат начинает несколько раздражать. Когда живопись начинает злить, я сажусь и переписываю. А скульптуру не переделать, поэтому в мастерской я их просто не замечаю. А когда кто-то хочет её купить, вдруг становится жалко. Скульптуру я продаю редко, в основном портреты и фигурки. Но предложений больше, чем я успеваю делать. Вначале я делал писателей только для себя и испытывал чистую радость, хотелось реакции писателей или критиков каких-нибудь. А потом наступил момент, когда я стал это дело слегка ненавидеть.
— А каких писателей чаще заказывают?
— Пушкина. На втором месте Толстой. Третий — Гоголь. Дальше все идут с отставанием. Пушкина я сделал раз тридцать. Он при этом всегда разный, а Толстой одинаковый. В толстовке, босой и похож на улей. Бывает, вдруг возникает некий объект желаний. Пришло что-то в голову, и начинают руки чесаться. А иногда приходят люди и что- то конкретное просят. Кого
я только не делал на подарки друзьям! Меньшевика Мартова для одного историка. Beatles для Николая Расторгуева… Его директор заявил, что лица не похожи. А для художника нет ничего противней требования похожести… Пришлось просить жену — она тоже художник, она прорисовала лица.
— Я бы ваши фигурки ставила в академических библиотеках для освежения восприятия классики. А вы бы какую судьбу предпочли?
— Мне нравится, когда есть ряд. Когда их много, они лучше смотрятся. Это как игрушки, их разгадываешь: кто это? У меня есть голубая мечта — наплодить их столько, чтобы после смерти их принялись собирать. Коллекционировали, как марки, сериями.
— А сами вы что-нибудь собираете?
— Раньше — книжки. Сейчас только своим дедушкой занимаюсь, Василием Ватагиным. Он проиллюстрировал больше двухсот книг в 20-30-е годы, в основном детских. Книжную графику его собираю, прижизненные издания, В этих поисках много азарта. Если мне сразу всё это дать, то интерес потеряется скорей всего.

— Вам есть за кем собирать. Три поколения художников. Прабабушка, дедушка, мама… Вы, видимо, были обречены на художество.
— Время, наверное, пришло «собирать камни». Отец мой тоже был художником, родители рано развелись, я жил с мамой, художником-реставратором. Меня никто не подталкивал, просто спросили — не хочешь пойти в художественную школу? Но обречён — это вряд ли. Папа мой из Белоруссии, и крестьянские корни довольно сильные. Я в армии был грузчиком, очень мне это нравилось. Копать, брёвна отёсывать. Монотонный ручной труд — от забора до обеда — от этого я всегда удовольствие получал. Так что вполне мог стать кем-нибудь другим.
— Вы хорошо относитесь к понятию «династия»?
— В принципе, да, хорошо. Вот я и мои друзья — все обладают неким талантом, большим или меньшим. Гениев между нами нет, но мы создаём среду, бульон, в котором может что- то крупное появиться. Без нас ничего не будет, я так считаю. Такие семьи с традицией, в них многое происходит. Хотя препятствия другим они создают. И трудно бывает человеку со стороны войти в этот круг. Хотя всех, кого я знаю из людей талантливых, — все пробились… Художество — это был мой сознательный выбор. И образ жизни мне, честно говоря, нравился. Будешь пахать с утра до ночи, зато не надо ходить на работу. Притом я общинный человек, одному мне скучно, персональные выставки я терпеть не могу, только групповые, и чтобы компания была помощнее.
— Зачем? Конкуренция же.
— Чем лучше чужие работы, тем мне радостней. Этим можно питаться. Мне надо на выставках, чтобы кругом были получше, а я чтобы был самым худшим, и это стимулирует. Зависти я при этом не испытываю, только чистую радость. А коллекционирование у меня в крови. Я по натуре систематизатор. Даже когда заснуть не могу, я сам себе придумываю задания: составить список лучших художников Ренессанса или художников на букву М. Когда в лицее, где дети учились, меня попросили составить список ста русских художников со слайдами, я наслаждался. Отбирал, тексты писал. Всё мировое искусство меня интересует очень. Даже если бы я не был художником, я всё равно бы им интересовался.
— У вас были творческие этапы?
— Это, наверное, со стороны легче увидеть. Последние лет двадцать я жил в основном за счёт портретов. И меня это очень радовало — потому что человек всегда интересен. А тут вдруг понял — всё, не могу. Настолько исчерпались приёмы.
С портретами у меня всегда были трудности. Если пишешь пейзаж и дерево сдвинешь, от этого ровным счётом ничего не изменится. А глазик человека чуть в сторону — и всё поехало. Тут нужно больше точности, больше работы. А с годами ты начинаешь делать одно и то же. Штампами, шаблонами работаешь, и трудно из этого вылезти.
— Творческие истерики бывают?
— Да. Это когда в самом элементарном месте… Вот пишешь портрет, сделал лицо.
И не можешь найти… ну там, к примеру, цвет воротничка. И с утра до ночи переводишь кучу краски, как идиот. Это может длиться очень долго. Иногда кончается гибелью работы. А иногда вдруг нашёл и думаешь — вот счастье!
— А где критерий?
— Внутреннее чувство. Ощущение, что цельности нет. Это обычно именно в портретах бывает, когда надо совместить ось нос — глаз и чтобы ещё с разных точек смотрелось. Чтобы портрет вышел гладко — это были считаные разы. Всё через преодоление. Один раз у Бродского прочёл, что вот, мол, стихотворение написалось подозрительно легко. Когда без преодоления, это настораживает. И не только меня.

— Поклонники, как правило, хотят от автора именно повторов. Ещё такого же.
— Ну, у меня их, слава богу, не столько, чтобы совсем всё загубить. С галереями я не сотрудничаю — они всегда требуют того же, что было раньше. У заказчиков не беру ни задатков, ни авансов. Выкладываюсь, как мне хочется, а дальше нравится — берите, а нет — оставляю себе, без обид. С авансом ты обслуга, а так — отношения другие. Тебе не обязательно нравиться. Хотя, естественно, когда пишешь заказной портрет, это же особый жанр, стараешься изобразить не пороки и грехи, а лучшее в человеке.
С женщинами особенно. Из кожи лезешь, а они потом обижаются — как же можно так уродски изобразить? После института, только женился, написал портрет жены. Один из. Маменькины пришли подруги, тоже художницы: «А, — говорят, — женился, так сразу и издеваться можно!» А я-то был полностью в восторге.
Но вообще, к критике я отношусь спокойно. Потому что в школе учился семь лет, в институте шесть лет, и один преподаватель говорил одно, а другой противоположное. Тех, кого я слушал, там было всего… (смеётся) один. В школе был такой преподаватель, причём очень слабый акварелист. Но талантливый учитель, что очень редко. Всё, что он говорил, ложилось на душу. Он нас очень любил. Если кто-то меня чему-то научил, так только он. Ну и одноклассники, конечно. Когда пишешь в мастерской, смотришь на тex, кто рядом работает. Десять человек одну тётку пишут, и все стараются друг друга перещеголять. Соревнование было. И прекрасные преподаватели, которые любили учить. Один, например, придумал, что надо рисовать фигуру с падающей тенью. Откуда он это взял? У нас была стипендия восемнадцать рублей, на краски, — так он грозился стипендии лишить, если тень не падающая. Даже плохого слова не о ком сказать, такие были люди. Хотя как художники все слабые. А в институте всем уже было по фигу. Из сорока пяти человек на занятия приходили шесть, одни и те же. А остальные являлись перед сессией и перерисовывали чужие рисунки…
Поэтому оценки, критика для меня белый шум. Даже если дельные советы дают, я не слышу. Грязно обзовут — будет интересно как курьёз. Хвалят — тоже ноль реакции, хоть обхвались. В жизни я робкий, а тут самоуверен до предела. Как самый упёртый баран. Сам поражаюсь — почему бы мне в жизни таким самоуверенным не быть?

— А бывают для художников удачные времена?
— Они всегда, по-моему, в чём-то удачны, в чём-то нет. Вот я жил в двух: средне-поздний Брежнев и сейчас. Тогда всё было ясно. Если ты вступил в Союз художников, тебя обеспечивали работой, а главное, была среда. Одни были реалисты, другие писали «неправильно». Те и другие друг друга ненавидели, сколачивали партии, боролись. Группировки были по тысяче человек, молодых и старых, совершенно не воспринимающих друг друга художников. Жизнь бурлила. Потом перестройка — и всё атомизировалось. Важно стало продать картину, а уж кто там пишет мазками, кто иначе, стало безразлично. Ушла большая среда, возникло болото.
— Не хотели бы жить во Флоренции во времена Медичи?
— Я жил два месяца в Италии. И… Нет, не хотел бы. Я люблю порядок — всегда стою в очереди, никуда не лезу, не толкаюсь. Наверное, мне хорошо было бы в Германии, но, боюсь, что даже чересчур хорошо. Немного слишком. А в Италии свой стиль. Примерно как у нас на Кавказе. Или в Ростове. Тебя все слегка норовят обмануть. Хитрят. Контракт мне уже приготовили на двести картин в год, но я сбежал. Мне здесь больше всего нравится, в Тарусе. Дедушка мой решил жениться в 1914 году, съездил в Индию, заработал денег, сделав там свою выставку, а потом построил этот дом. И всё время до революции здесь жил.
— Была какая-то удивительная семейная история. Он женился на сёстрах, как Юрий Олеша.
— Да. Бабушка умерла рано, году в 32-м, от рака, и дед женился на ее старшей сестре
с ребёнком. У неё буквально через два дня после смерти сестры покончил самоубийством муж, итальянец швейцарского происхождения. И они, поженившись, вырастили троих дочерей, в том числе и маму. Я помню бабушку, она жила с нами до моих двенадцати лет, потом её забрала к себе родная дочь.
— А жили в Москве?
— На Масловке, где я и родился.
— Редкий, между прочим, случай непрерывной семейной линии. И дом, и профессия, и картины, и книги, даже дедушкины росписи на печи — всё сохранилось. Но ведь не каждый захочет так жить. Семь месяцев — в деревянном доме с печами, вокруг в Тарусе сплошные памятники, дома Заболоцкого, Паустовского, Марины Цветаевой, могила Борисова-Мусатова, памятник Белле Ахмадулиной, кафе над речкой, где она сидела в шляпе и вино пила, на противоположном берегу Поленово. Такой многослойный культурный пирог и не слишком устроенный быт… Кому как не вам собирать коллекции, при такой-то оседлости? Вы в душе хранитель? Вы себя как-то назвали консерватором-охранителем.
 — По взглядам — да. Я всех делю на славянофилов и западников. И это не взгляды, а от рождения, это данность такая. Я славянофил, сын мой западник, а дочка как я. Но я мягкий. А мягкая часть славянофилов и западников должна не дать произойти революционным безобразиям. И власть у нас идеальная в том смысле, что она раздражает всех, но не сильно и с разных сторон. От власти всегда чего-то надо и чего-то должно не хватать, но по-разному и равномерно для всех, иначе одна сила другую сметёт. В нашей истории так всё время было, да похоже, что и в мировой.
— По взглядам — да. Я всех делю на славянофилов и западников. И это не взгляды, а от рождения, это данность такая. Я славянофил, сын мой западник, а дочка как я. Но я мягкий. А мягкая часть славянофилов и западников должна не дать произойти революционным безобразиям. И власть у нас идеальная в том смысле, что она раздражает всех, но не сильно и с разных сторон. От власти всегда чего-то надо и чего-то должно не хватать, но по-разному и равномерно для всех, иначе одна сила другую сметёт. В нашей истории так всё время было, да похоже, что и в мировой.
— А славянофил — это сейчас кто?
— Это некий взгляд на суть вещей. Если бы я построил свою славянофильскую страну, западник в ней не выжил бы. Противно б ему было. И наоборот. Но я и пытаться не буду. Слишком у нас бурная история, и думаешь, как бы не стало ещё хуже. Я сомневаюсь, что активная борьба приведёт к улучшениям. А к ухудшениям точно приведёт. Хотя, может, я и не прав. Ведь любая власть со временем борзеет, и ей время от времени нужна острастка. Чтобы боялась. Но революций и безобразий не хотелось бы. А вот как это совместить…
— А как вы думаете, в вещах есть смысл кроме прагматического? «Вот это стул, на нём сидят».
— Да. Если на стул особым взглядом посмотреть, можно понять смысл всего. Материи, например. Структуру мира. Словами это трудно выразить, но бывают моменты, когда ты это остро понимаешь. Сидим мы с вами, к примеру, — и вдруг гак свет на лицо упал, что я понимаю — это имеет смысл. Это надо сделать. Но такое случается один-два-три раза в год. Тогда ты три месяца трудишься, а остальные девять что? Вспышка, идея, сочетание цветов, образ — вот он имеет смысл,
а остальное — так… Можно делать, можно нет.
— Но ведь художнику тоже надо зарабатывать.
— С этим приходится смиряться. Сезанну, например, отец оставил наследство, ренту, и он мог о деньгах не думать. Льву Толстому Катков платил в десять раз больше, чем Достоевскому, потому что граф не голодал и спокойно мог уйти к другому издателю. Но деньги иногда и мешают. Без них работается легче. Нехватка мотивирует. Это как зима и лето. Разные периоды жизни.
Я с тринадцати лет начал за маму делать заказные работы. Она была реставратором музея Рублёва и ещё писала иконы полутайно, потому что за это и посадить могли. И порой впадала в страшную истерику, когда нужно было заказных «Трёх медведей» рисовать. Эти картины назывались «сказки», делались для детских садов Средней Азии. Я их массу перерисовал и успел возненавидеть. Двести рублей, по-моему, стоила одна «сказка». На это и жили. Прекрасная жизнь.
— А есть у вас семейный секрет успеха?
— Как сказала художница Стреженевская, главное — работай честно и всё придёт. Надо себе соответствовать, вот и всё.
— И времени?
— От времени не уйдёшь. Всё равно будешь работать в том же ключе, что и все. Лет через сто и Кабакова, и Шилова будут атрибутировать как художников рубежа XX-XXI века. Это мы думаем, что мы очень разные, но время у нас одно…
Когда закрывала калитку дома художника, подумала: семейные архивы, письма, фотографии — то, что в этом доме берегут, — скоро это все закончится. Останутся жёсткие диски, прочие информационные носители исчезнут. И тогда наступит звёздный час старинных писем на бумаге, книжек в переплётах и портретов, написанных маслом. Им, «как драгоценным винам, настанет свой черёд». И художник Ватагин будет всем о нужен как человек будущего, потому что хранит прошлое и переписывает портреты классиков. Это, видимо, и есть традиция во плоти.
Беседовала Наталья Смирнова











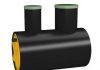






Поленово 4 км ниже по течению